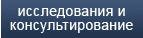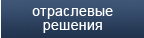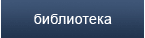Планирование театра военных действий и локальных операций
Использование военных метафор в описании маркетинговой практики имеет насколько
давнюю, настолько и ущербную историю: производители и продавцы не
сталкиваются мечами (или лбами?) ни перед кошельком покупателя, ни с
самим покупателем. Они выставляют свой товар на прилавок и смиренно
ждут, когда покупатель их выберет. Но в одном параметре маркетинговая
практика сходна с военными действиями. И этот параметр —
географический! Захват территории является целью войны и эта же цель
должна определять все маркетинговые усилия производителей и продавцов.
И
хотя учебники по маркетингу продолжают утверждать, что увеличение сбыта
возможно двумя способами (увеличение числа потребителей и повышение
интенсивности потребления), любой практик в частной беседе признается,
что возможности повышения интенсивности потребления крайне ограниченны
(тем более, на период бизнес-планирования в год-три) и только
привлечение новых потребителей позволяет существенно расширять сбыт. Но
и на конкретной территории количество потребителей, которые даже
потенциально могут быть заинтересованы в конкретном предложении,
ограниченно!
Если в каком-то городе за год рождается 20 тысяч
детей, то количество проданных подгузников будет ограниченно именно
этим количеством детских поп, требующих сухости и комфорта. И чтобы
продать еще то или иное количество подгузников потребуется найти еще
один город, или хотя бы поселок. Но правильнее всего формулировать
маркетинговые цели не сколько в терминах территорий, а в самом простом и измеримом параметре — МАГАЗИНЕ, в котором бы заинтересованные покупатели могли бы купить эти подгузники.
Вот тут начинаются основные различия между
военным и маркетинговом географическом планировании: военные (а в
торговых компаниях — логистики) мыслят категориями реальных расстояний
и площадей, а маркетологи должны думать в категориях численности
населения, объема денег и конкретных торговых точек. И использовать для
этого соответствующие информационно-географические ресурсы.
Основным информационно-географическим
ресурсом, как известно, являются географические карты и схемы
(большинство туристических карт, атласов дорог и т.д. являются схемами,
а не картами). Основная задача и карт и схем является уменьшенное и
обобщенное изображение поверхности Земли с показом расположенных на ней
объектов в принятой системе условных знаков. Но карты строятся по
математически достаточно строго определенным правилам переноса
поверхности земной сферы на плоскость бумаги, а схемы могут довольно
равнодушно относиться к реальным географическим координатам, но
оказываться более удобными для повседневного использования при решении
определенного типа задач.
Различия между картой и схемой легко заметны при сравнении карты и схемы метро: хотя карта более более-менее точно демонстрирует расстояние между станциями (причем оно не соответствует реальному маршруту линий и искажает реальное расстояние, которое нужно преодолеть человеку; с искажением отображаются улицы на склоне городских холмов: на карте эти улицы короче, чем на самом деле), но пассажиру для выбора маршрута поездки это абсолютно не важно и вполне достаточно схемы, демонстрирующих расположение станций относительно друг друга.
|  |
Рис.1 Карта Москвы и схема линий
метрополитена. На схеме метрополитена не соблюдаются все пропорции
расстояний между станциями и реальные направления. Да и сама карта
выполнена с определенными «нарушениями»: традиционно московские карты
ориентированы не строго на север, а с небольшим, около 15 градусов,
смещением по часовой стрелке.
Выделяют две основные составные части картографического изображения: КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА, служащая для нанесения и привязки элементов тематического или специального содержания, а также для ориентировки по карте; второй частью является ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ, отображаемое с помощью той или иной системы знаков. Дополнительным элементом карты является ЛЕГЕНДА, т.е. система использованных на карте системы знаков и текстовых пояснений к ним.